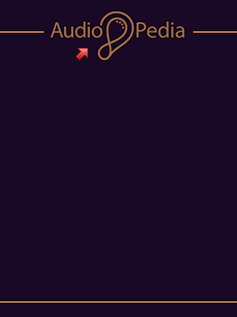Свищет всенощною сонатой
между кухонь, бензина, щей
сантехнический озонатор,
переделкинский соловей.
Ах, пичуга микроскопический,
бьет, бичует, все гнет свое,
не лирически -
гигиенически,
что б вы выжили, дурачье.
Отключи зажиганье, собственник.
Стекла пыльные опусти.
Побледнев от внезапной совести,
кислорода и красоты.
Что поет он? Как лошадь пасется,
и к земле из тела ея
августейшая шея льется -
тайной жизни земной струя.
Ну, а шея другой - лимонна,
мордой воткнутая в луга,
как плачевного граммофона
изгибающаяся труба.
Ты на зиму в края лазоревы
улетишь, да не тот овес.
Этим лугом сердце разорвано
лишь на родине ты поешь.
Показав в радиольной лапке
музыкальные коготки,
на тебя от восторга слабнут
переделкинские коты.
Кто же тронул тебя бердянкой?
тебе Африки не видать.
Замотаешься в шарфик пернатый,
попытаешь перезимовать.
Ах, зимою застынут фарфором
шесть кистей рябины в снегу,
точно чашечки перевернутые,
темно-огненные внизу...
Как же выжил ты, мой зимовщик,
песни мерзнущий крепостной?
Вновь по стеклам хлестнул, как мойщик,
голос, тронутый хрипотцой!
Бездыханные перерывы
между приступами любви.
Невозможные переливы,
убиенные соловьи.
между кухонь, бензина, щей
сантехнический озонатор,
переделкинский соловей.
Ах, пичуга микроскопический,
бьет, бичует, все гнет свое,
не лирически -
гигиенически,
что б вы выжили, дурачье.
Отключи зажиганье, собственник.
Стекла пыльные опусти.
Побледнев от внезапной совести,
кислорода и красоты.
Что поет он? Как лошадь пасется,
и к земле из тела ея
августейшая шея льется -
тайной жизни земной струя.
Ну, а шея другой - лимонна,
мордой воткнутая в луга,
как плачевного граммофона
изгибающаяся труба.
Ты на зиму в края лазоревы
улетишь, да не тот овес.
Этим лугом сердце разорвано
лишь на родине ты поешь.
Показав в радиольной лапке
музыкальные коготки,
на тебя от восторга слабнут
переделкинские коты.
Кто же тронул тебя бердянкой?
тебе Африки не видать.
Замотаешься в шарфик пернатый,
попытаешь перезимовать.
Ах, зимою застынут фарфором
шесть кистей рябины в снегу,
точно чашечки перевернутые,
темно-огненные внизу...
Как же выжил ты, мой зимовщик,
песни мерзнущий крепостной?
Вновь по стеклам хлестнул, как мойщик,
голос, тронутый хрипотцой!
Бездыханные перерывы
между приступами любви.
Невозможные переливы,
убиенные соловьи.